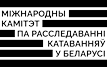"Спасло меня только то, что через пару карцеров от меня начали петь песню "Воины света, воины добра"
Евгения (имя изменено в целях безопасности) – одна из белорусок, которая за два года протеста успела заплатить за неравнодушие и отказ быть аполитичной днями на Окрестина, месяцами в СИЗО Жодино и Минска, сроком в колонии. И несмотря на агрессивную тотальную несвободу, она остается в Беларуси.
Выйдя на свободу, Евгения рассказала "Весне", как в жодинском СИЗО политических забрасывают рапортами, что способно вернуть желание жить, когда ты замерзаешь в карцере на голодовке, и почему она остается настойчиво в Беларуси, хотя после почти 2,5 лет протеста вздрагивает от каждого звонка в дверь.
Праваабарончы цэнтр "Вясна" і Міжнародная платформа для Беларусі па прыцягненні да адказнасці вінаватых працягваюць кампанію па дакументававанні.Калі вы пацярпелі ад катаванняў з боку сілавікоў ці сутыкнуліся з нечалавечым і жорсткім абыходжаннем, парушэннем правоў чалавека — калі ласка, пішыце ў Telegram: @ViasnaDOC і на Email: viasnadoc@spring96.org.Таксама вы можаце распавесці сваю гісторыю журналістам "Вясны": @Spring96info. |
Неизбежность
Звоночком, что после нескольких задержаний по административным делам и статуса подозреваемой по уголовному, Евгению на свободе не оставят, стал день, когда ее задержали на глазах у мужа и детей, когда семья возвращалась с сумками из магазина.
"Ребенок впивается в ногу милиционеру: "За что вы трогаете мою маму, она ничего не сделала". Он, просто как щенка, его откидывает. Меня сажают в машину и увозят, – описывает Евгения. – Они думали, что найдут мой телефон. Следователя злило, что он никак не мог до него добраться. Они разобрали мою сумку по частям, меня голую металлоискателями осматривали дважды. Не знаю, где, они думали, я могла спрятать телефон. Они держали меня 7 часов, хотя больше трех по закону не имели права. Без воды, без еды. Зная, что мой муж ждет меня в фойе РУВД, а дома у меня только маленькие дети, они отправили туда следователя. Ломали дверь, спалили звонок".
Буквально через несколько дней к Евгении пришли с обыском.
Пришли мстить
"Благо, детей не было дома. Полки просто выворачивались, комод вырвали с куском стены. Они сносили все, что видели. У меня были пустые шкафы, пустые кровати. Следователь мне открыто сказал, что, если бы я телефон отдала сама, они бы так не громили квартиру. Короче, пришли мстить. Когда нашли телефон, они еще высыпали порошки в ванной и затем успокоились. Ушли. Мы начинаем убираться, и тут они возвращаются: "Мы же у вас забрали телефоны, следователь с вами не сможет связаться – проедем с нами". У меня дежурная сумка на Окрестина уже года 1,5 стояла. Говорю мужу: "Я уже не выйду". Так оно и получилось. На мой вопрос: "Ты счастлив, что меня закрыл?", следователь сказал: "Ты не представляешь как". Очень ему доставляло удовольствие откатывание пальцев, фотографии в фас-профиль. Я не понимаю, что у него в голове, он же совсем молодой. Прощать то, что он творит, нельзя".
К ночи Евгения была на Окрестина. А утром, до завтрака, ее снова отвезли в РУВД. Три дня она сидела в бетонной камере РУВД с бутылкой воды, а ночи проводила на Окрестина. Чудом переданные мамины бутерброды – единственная еда за это время. Бутерброды были завернуть в салфетку с обрисованной ручонкой дочки. Эта салфетка хранится до сих пор.
Большую часть времени под арестом Евгения провела в жодинском СИЗО. И называет это самым страшным из всех мест ее заключения.
"Вы ж знаете, что вы экстремист?"
Евгению, как и всех по политическим статьям, сразу же поставили на профилактический учет как склонную к экстремизму.
– Сидит комиссия человек 7-8. Тебя в клетку сажают, и начинаются вопросы типа: "Вы ж знаете, что вы экстремист?" Был один бешеный терапевт, главный терапевт Жодино, тоже абсолютно молодой мальчик – он вообще неадекватный. Он когда на меня орал: "Сколько тебе платили?", у него аж слюна летела.
Получив коричневую бирку, Евгения могла спать только на втором ярусе и напротив глазка. Иногда доходило до такого, что сотрудники СИЗО могли указать, в какую сторону спать головой.
Принятие
"Первую неделю ты думаешь, что скоро выйдешь. Потом начинаешь себя успокаивать: "Я не видела месяц детей, допустим, в лагерь отправила". Потом начинается депрессуха страшная, ты все время плачешь. Потом тебе становится абсолютно все равно, что с тобой будет. Пока наконец ты не принимаешь свою новую жизнь в этом месте, с этими людьми, с этими правилами. Понимаешь, что ты в плену. Там, если ты себя не вытянешь, тебя никто не вытянет. Тебе ночью снится дом, а открываешь глаза – ты в тюрьме. Первые месяцы ощущение, что это будет вечно. За все время, что я сидела, самая большая боль – это быть без детей. Тупая непроходящая боль".
Рапорты Жодино
"Камера заплесневевшая, с паутиной, с тараканами. Там все течет: под кранами тазики, краны перемотаны носками, тряпками, везде подтеки на побелке. Я, когда зашла, не верила, что в таких условиях люди могут жить. Сразу же меня назначают дежурной по камере. Я первый день вообще в тюрьме, откуда я знаю, какие правила?! Никто же ничего не объясняет. И они мне в первый же день дают рапорт – за то, что я не так, видите ли, убирала камеру. В Жодино два раза в день на час ты зачем-то скручиваешь матрас и поднимаешь на второй ярус. И не на любую кровать, а строго на определенную. Эти два часа ты еще должен убирать камеру.
Перекидывают в другую камеру, где часть девочек работает на жодинского оперативника. А там много не надо, ты можешь зацепиться за какую-то политическую тему, и они говорят оперативнику, что я их подстрекаю к чему-нибудь. Там мне дают еще рапорты. Один – я, будучи дежурной, не взяла с окошка ложки для еды, потому что в это время чистила зубы. Всем остальным можно было, чтобы кто-то это сделал за них, если не успевают, но для меня не было исключения. Они меня такими издевками и доколупываниями довели до того, что у меня поднялось давление 180 на 150. Я думала, умру. Слава богу, с третьей попытки мы вызвали врача, но уколы не помогли. И вместо того чтоб дать постельный режим, пришел опять проверяющий и сказал, что он где-то нашел пыль – дать ей еще один рапорт. Я понимаю, что они ведут к тому, чтобы отправить меня в карцер. Я объявляю голодовку".
"Мама, я не выживу"
"Бетонное помещение в подвале с заколоченным окном, со стеклянной дверью, где все товарищи ходят с собаками и смотрят, как ты ходишь в туалет и моешься, и над тобой еще при этом висит камера. С тебя снимают всю твою одежду, оставляют в какой-то тюремной непонятной робе. Я влезла в одну штанину целиком. Они разрешили мне мои штаны, но самые тоненькие. В карцер ты не имеешь права взять вообще ничего. Только зубную щетку, мыло, туалетную бумагу, полотенце. Матрас тебе выдают только на ночь. Я сорвала себе спину, потому что кровать нужно откидывать, а она очень тяжелая. У меня пошли гнойные фурункулы по всему телу от холода. Единственное спасение – это двигаться. А после 5 дней голодовки ты не можешь быстро ходить, не можешь прыгать – делать что-то, чтоб согреться. Карцер по диагонали 4,5 моих шага. Я целый день ходила, чтобы греться. Эти 4,5 шага мне потом снились".
Но вместо сочувствия Евгения в карцере получила еще рапорты.
"Я смотрела в это маленькое окошечко и все время кричала: "Мама, спаси меня, я не выживу". Я нашла какой-то камень и скоблила себе вены. Там тебе уже все равно, просто не хочется жить. Спасло меня только то, что через пару карцеров начали петь песню "Воины света, воины добра". Я расплакалась. Я поняла, что не одна. Выкинула этот дурацкий камень. И в этот момент еще я подхожу к решетке возле двери, а на ней в разных местах написано: "И это пройдет", "Улыбнись". И я поняла, что это не то место, которое должно меня сломать".
Но голодовка все же помогла. Раньше положенного срока, естественно, выпускать никто не собирался, но удалось "выторговать" теплые вещи. Когда по окончанию штрафного срока девушку попытались оставить в карцере, изможденная голодовкой и условиями, Евгения упала в обморок. И ее все же вернули в камеру.
"А еще так интересно получилось. Была хорошая погода, но когда я выходила из камеры в карцер, начался жуткий ливень, гремело так, что казалось, тюрьма рухнет. Ливень шел все время, пока я была в карцере. И когда я вернулась в камеру, в тот момент засветило солнце".
Взаимоотношения
"Как правило, обычные заключенные не очень тебя любят, считают изгоем и могут подставлять. Неполитическим девочкам там живется более-менее, они могут себе позволить прилечь днем, сидеть. Но как только заводят политическую – к нам же начинают придираться – это отражается на них.
Оперативник одного из СИЗО пытался под меня копать: он вызывал девочек из нашей камеры и расспрашивал про меня. Но меня любили все девочки. У политических же всегда большие ссобойки, и я всегда всем покупала сигареты, делилась вкусняшками. Для них шок, что тебе не жалко. Я начитанный человек, поэтому им было со мной интересно. И меня почти никто не сдавал. В итоге я сама вызвалась к этому оперу: "Если есть какие-то вопросы, спросите лично у меня". Долго я с ним разговаривала, он по-другому стал относиться, сильно мне помогал. Но и ругал меня: "Ты моих девочек распустила, они теперь не хотят на меня работать".
В колонии с политическими девочками мы встречались только на фабрике на курилке. Такой "кружок по интересам". Как ни странно, но администрация колонии это разрешила. Жаль, Маше (Колесниковой, – прим. ред.) нельзя вообще ни с кем общаться. Но улыбочки, поцелуйчики все равно посылали".
Медицинская беспомощность
"В Жодино вся камера заболела коронавирусом. Я с температурой под 40. Естественно, это все равно скрученные матрасы: постельный режим никакой мне не дают. Мне не дают даже лекарства. Их просили на себя девочки и отдавали мне. И я еще в самой отвратительной камере: температура за окном 30 градусов, в камере, наверно, все 40. Туда постоянно подселяли жутко вшивых девочек".
Эта камера тоже была средством прессинга. Как только Евгению решили оставить в покое, ее переселили в более приличные условия. Кстати, зимой в камерах, наоборот, очень холодно. Пока не включат отопление, люди надевали на себя всю одежду, которая была, спали в шапках.
Спасительные письма
Все, что меня спасало – родные и письма людей. Когда в жодинском СИЗО прошел прессинг в отношении меня, письма шли сотнями. Каждое письмо – со слезами. Ты не веришь, что это пишут про тебя. Бабушка какая-нибудь пишет: "Я испекла кексы, поделила на всех политических". И мне приезжает с этой запиской кусочек кекса! И это было постоянно. Моя мама писала мне каждый день. Она просыпалась в 6 часов, как и я, чтобы мне не было обидно, и начинала писать.
С началом войны всем политическим обрезали переписку. В один день. А мы стучались ко всем начальникам, жалобы писали. Нам, конечно же, врали: "Все, что вам приходит, мы отдаем". Но оперативник мне честно сказал: "Ничего не добьетесь, это не наше решение, это решение свыше".
Велели составить список родственников – только от них отныне передавали письма.
"Поддержка людей безумно нужна. Я думала, пройдет какой-то отрывок войны, и они возобновят переписку политическим. Я знаю, как им больно без этих писем. Нам с начала войны запретили письма – и через недели две тебе казалось, что тебя все забыли".
"Дело Зельцера"
Когда в Жодино привезли людей, задержанных по "делу Зельцера", слух об этом быстро разнесся по всему СИЗО. Но людей привезли, а в камерах они так и не появились…
"Проходит 10 дней, 20 дней, месяц – не поднимают. Их мучили или 37, или 47 дней, не помню, в подвале на карантине. А когда подняли, за один день на одном этаже тюрьмы я насчитала 150 коричневых карточек, когда раньше было около 20 политических. Поднялись девчонки жутко измученные. Им не передавали посылки, передачи. Кого в чем взяли, кого в пижаме, кого с улицы, так их впихнули в этот якобы карантин. Им не давали ничего покупать в отоварках. Только разрешили туалетную бумагу купить, и ту полностью размотали, когда отдавали. У нас в Жодино один день вообще не было воды, но нас предупредили, мы налили в бутылки. А девочек по "делу Зельцера" не предупредили. Целый день без воды, туалета, женских нужд! Что это, как не пытки? Когда они поднялись, у них были целые аптечки мазей от синяков, потому что никто не знал, избивают их или нет. Здесь их не избивали, но морально давили. Парней, наверно, били, потому что девчонки говорили, что слышали звуки из соседних камер и крики. У девочек только оставались побои, которые были при задержании. К нам поднялась девочка – синяки черные через 40 дней так и не сошли.
Девчонки были очень морально подавленные. Но они старались взять себя в руки, на все рапорта, что ты экстремист, они говорили: "Я НЕ склонна к экстремизму, НЕ склонна к деструктивной деятельности". Я очень переживаю за людей по "делу Зельцера". Конечно, невозможно приготовиться к прессингу, который там устраивают, к нечеловеческим условиям. Я хотя бы понимала, чем может закончиться для меня моя борьба. А девочки, которые написали по одному комментарию, и уже год сидят, вообще далеки от всего этого. И не все сильные морально. Там очень много сломленных людей".
Судебная "постановка"
Как пройдет дорога в суд, зависело от настроения конвоиров. Когда хотели продемонстрировать свою власть, могли продержать в наручниках даже в стакане, где полдня ожидаешь заседания. Сам суд Евгения называет спектаклем.
"Например, один из эпизодов – фотография, где не видно, на обочине я стою или на проезжей части. Они распечатывают гугл-карту, тыкают ручкой на проезжую часть и говорят: "Она стоит тут". Адвокат берет ручку и тыкает на тротуар: "Она стоит тут". Докажите. Почему вы не производили следственные действия, не возили туда, не фотографировали, не сопоставляли потом фотографии по ракурсу?"
Тем не менее суд ничего не смутило. Евгению отправили в колонию, правда, с учетом проведенных в СИЗО месяцев, оставалось немного.
Этап из фильма ужасов
"Это был просто какой-то фильм ужасов. Ночь, ты идешь по рельсам, моросит мелкий снежок. Стоят штук 10 военных с собаками, с автоматами, с дубинами. Половина ребят в наручниках – политические. У меня было ощущение, что я в военном фильме 40-х годов. В 2 часа ночи тебя сажают на поезд, "Столыпин" он называется. Кое-кому из парней разрешили помочь мне нести вещи, потому что скопилось 4 огромные сумки, а вещи сдавать родным запрещено. Потом прибавилась еще одна, неподъемная, полная писем. И вот это все я должна была носить сама, а в тюрьме – плюс матрас. Естественно, я сорвала себе спину, ногу вообще отняло.
Вот представляете себе купе? Только у нас не дверь, а решетка. Сверху у тебя полка цельная, как кровать, на все купе. Нас с вещами впихнули в это купе 11 человек. Мы не то что висели, лежали друг на друге. На Володарского нам дали сухой паек типа кашки, но при этом нам не выдавали кипятка. Кипяток выдали один раз в 5 утра, когда все спят, а потом говорили, что это ваши проблемы, что не заварили. Но это была еще не самая ужасная поездка, потому что мой этап собирал людей не по всем тюрьмам. У нас в колонии была женщина лет 70, которая ехала двое суток, так как ездили по всей стране, собирая заключенных. Этот этап называется "Кругосветка". Так вот ей не снимали наручники ни на минуту, даже в туалет".
Рабский труд
"В колонии меня никто не трогал. Хотя из Жодино меня выпустили с такой характеристикой, что я вообще не должна вылезать из карцеров. А я не могла понять, почему каждый опер меня вызывает и спрашивает, хорошо ли я буду себя вести. Конечно, там я буду играть по их правилам: я хочу выйти нормальной к детям. Там все политические примерно так себя и ведут.
Очень тяжело с лекарствами: тебе не дают твои лекарства, ты должен отстоять дурацкую стометровую очередь, чтобы их выпить. И если ты должен принимать их три раза в день, у тебя никак не получится, потому что ты работаешь. Полдня на фабрике, полдня ты драишь туалеты или коридор, чистишь картошку или столовую моешь – у тебя сто миллионов дел".
Евгения отмечает, что дежурить ставят именно политических.
"Зарплаты дико маленькие. Девочки неполитические пашут на фабрике по 8-10 часов, получая при этом 500-600 рублей, и из этих денег 75% удерживается. Бесплатный рабский труд. Женщин за алименты круговоротом туда впихивают. Потому что их выпускают, они ничего не заработали, их опять закрывают. И они шьют милицейскую форму, бушлаты, военную форму. Все, что одето на тех, которые нас избивают. А кормят тебя таким, простите, говном. Картошку когда брали чистить, там опарыши. Это хорошо, что у меня от коронавируса запаха нет".
Пропаганда
Отдельная мука – просмотры белорусского ТВ.
"Естественно, там смотрят Азаренка, Тура и всю эту шоблу. Половина девочек в колонии сидят по 10 лет и больше, они не представляют вообще, что происходит. Там 90% верят. А ты ничего не можешь сказать, потому что тебя сразу сдадут оперу и запихнут в карцер. Я целый год жила с двумя словами: молчать и терпеть.
Но тебя радует, что ты хоть какие-то новости узнаешь – ты умеешь правильно их вывернуть. Причем в СИЗО я научила своих девочек в камере правильно переворачивать эти новости. И они потом слушали и мне переводили. И это была моя маленькая гордость, что пусть у 10, 15 человек, но умы я поменяла".
Но были и неожиданные откровения. Как признание сотрудника одного из СИЗО: "Почему у вас ничего не получилось, мы же вам поверили?"
"И мне хотелось взорваться и сказать: мало верить, надо еще сделать. Но при этом я думаю: они же нашли в себе силы признаться. Хотя бы в том, что они на нашей стороне, хотя бы мыслями – это уже хорошо".
Унижение бытом
"Ты в абсолютно дурацком платье на несколько размеров больше, такой же куртке и жакете. Я такой "красивой" никогда не была. Потом думаю: чем хуже я выгляжу, тем больше им должно быть стыдно. Рапорт могут дать за любую мелочь: пуговичка не застегнута, без косыночки вышел (у тебя уже волосы принимают форму косынки), опоздал на минуту. За тебя решают – холодно или жарко: ты можешь на проверке в 7 утра летом стоять в куртке, а можешь, когда на улице 10 градусов, стоять в платье".
Если у заключенных есть родные, которые заботятся о передачах, о деньгах на счету, то со средствами гигиены в колонии проблем нет.
"А девочки малоимущие используют газеты. На месяц выделяют 5 прокладок, некоторым девочкам этого хватает на один день. Там воровство. У тебя могут стырить носки, полотенце. И пустить его опять-таки на прокладки. Вещи я сушила на себе, чтоб не сперли. А потом, когда мне чуть-чуть оставалось, я не могла кому-то что-то оставить, даже если хочу. С каким количеством вещей ты зашел, ты должен с таким выйти. Если я хочу оставить девочке новую пару колготок, я должна у нее забрать старую.
Я не знаю почему, но в колонии очень боялись, чтобы мы эти желтые бирки (пометку "склонного к экстремизму" – прим. ред.) с собой не вынесли. Хотя там ничего сверхъестественного не было: твоя ужасная фотография, ФИО, дата рождения, статья и срок. Обычно, когда выходишь из колонии, в это же утро тебя шмонают. У меня вещи забрали за сутки, перетрясли все".
"Свобода"
"Первые пару дней ты не понимаешь, что с тобой происходит. А потом мне стало страшно находиться дома. После этих обысков. Они ж меня еще до этого в РУВД тягали, по трое суток раз пять на Окрестина держали. Любой звонок в дверь или в домофон – я вздрагиваю, вздрагивают дети. Мне все время снятся задержания, что я в тюрьме, просыпаюсь – и ищу ребенка рядом.
Мне позвонил опер, ему принципиально было, чтобы я приехала, а он не говорит, для чего. А мне переступить порог РУВД – это вернуться на 1,5 года назад. Я себя настроила на позитив, я ничего не боюсь, один звонок – у меня трясутся руки, я в слезы, не сплю два дня, не ем, прощаюсь с детьми. А по сути зашла, отдала справку и вышла. Дети от меня не отходят. Первые дни они даже сидели под ванной, каждые пять минут стучали, пока я мылась, и спрашивали: «Мама, ты не исчезла?». Но они, слава богу, понимают. Сын сделал график, что мы пропустили совместно 22 праздника. И мы два месяца праздновали их.
Уезжать я категорически не хочу. Кто-то же тут должен остаться с людьми Победу встречать. Встречаешь кого-либо на улице, а человек тебе: "Спасибо, что ты не уехала". Но на самом деле, мне кажется, не проходит и дня, чтобы я не плакала, потому что каждый день читаешь про задержания и сроки. И злость такая берет, что ты ничего не можешь сделать. Тяжело людей сейчас встречать, потому что все подавленные. Все вроде верят в победу, но мы в нее и два года назад верили. Все время вспоминается 20-й год, счастливые радостные лица людей. Мы же тогда поменялись, даже внешне, у нас лица посветлели. А сейчас все опять стали такими серыми. Но все равно мы победим! Очень жаль, что такой большой ценой: здоровьем, судьбами людей, человеческими жизнями. Но не с моим характером сдаваться".